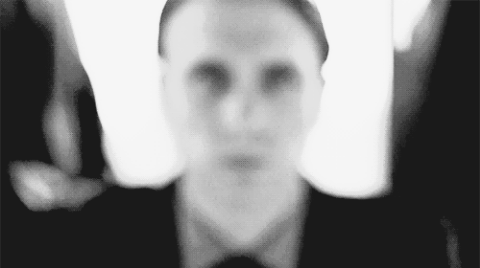|
О ПЕРСОНАЖЕ
статус крови: | школа: |
Eggert Kramer, 53 – сильно придавленный бременем алкоголя субъект, по совместительству – отец.
Aloisa Kramer, 49 – сбежавшая мать.
Martha Kramer, 25 – возлюбленная сестра.
Wilhelmina Weingard, 27 – супруга из серпентария, преступница, не годна к употреблению.
Blut und Boden
Краеугольное воспоминание Хайнерова детства легко умещается в трехсложное позор-позор-позор.
Хайнер ясно помнит и лужи вокруг, и заунывный стон ветра в голых ветвях, и боль разодранной ладони, остервенело царапающей камнем огрызок истертой брусчатки. Позор-позор-позор. Он помнит лепет обветренных губ и живо ощущает бессмысленный, застрявший в разбухшей почве взгляд. И слезы, уже чужие. И грязь, всюду грязь.
Теперь грязь не касается этих холеных рук. Кровь, слюна, лимфа, отчаянный оттиск арестантских зубов – все задерживают черные перчатки со скромным клеймлением на заклепках: треугольник со вписанной в него окружностью.
А надпись – надпись осталась перед отчим домом надолго, как чумное пятно, как метка стыда, как непреложный обет все исправить. Дом увядал в теплице лет, а несводимая полоска валких букв годами сквозила магией детской обиды. Хайнер знает: надпись по сей день на месте и исчезнет, когда виновницу ее появления посетит раскаяние. Когда позор будет выжжен из тела матери, бросившей своих чад на съедение нищете и убожеству.
Эпохальная надпись создала образ Хайнера таковым, каким он поныне себя представляет. Контролирующим, острым, вездесущим. Серая муть осеннего дня в безликом пригородном кондоминиуме выварила роковое величие его судьбы.
Отец, дремлющий в вечном опиумном сне, со сточенными временем чертами, остался где-то там, среди дырявых дорог, пожухлых небес и голодной пустоты разметанного бытия. К совершеннолетию Хайнера они не виделись достаточно, чтобы разувериться в существовании друг друга. К обоюдному счастью.
Зато Хайнер никогда не забудет маленькую Марту – кремово-коричную картинку черно-белого малолетства. Она восстает перед глазами в ореоле деталей, подлинней, чем собственное его отражение. Он придумал ее. Соткал во чреве отрочества и юности по образу и подобию своему. С самого начала, с того черного дня, когда мать бежала с запаршивевшим лавочником, Хайнер исступленно правил сестру, а вместе с ней и весь свой мир.
Он должен был, ведь никто другой не умел делать то, что необходимо. Никто другой не знал, как правильно.
Сироты при живых родителях, они кормились горечью послевоенного упадка, редкими проблесками отцовской трезвости и бесцветным сплином неустроенности.
Марта была на диво податливой глиной. Ею Хайнер благодарно утолял дикую жажду тотального контроля и всеохватного исправления. На ней экспериментировал с реальностью грубыми методами кнута и пряника. Других еще не знал. Он был слаб, зол и растерян, он страстно желал переписать выданный им кошмар, тот самый, в коем главным антагонистом значилась мать. Что до отца – родителя мужеского пола Хайнер с презрительным снисхождением причислял к отупевшим животным, малодушно лакающим забытье, когда следовало бы искать настоящего забвения.
С методичным бесстрастием Хайнер вытравливал материнское из воспоминаний, комнат, сестринского лица. Она разучилась носить в себе недостойное, думать неправильно, кривить губы на запрещенный манер, даже пахнуть как мать. В растянувшейся на годы симфонии целомудренного аншлюса Хайнер распространил себя на Марту, и Марта стала продолжением его – не матери – существа. И пусть формы, в которые он отливал Марту, не всегда были ей впору – до рези, до крови, до щелочи слез – он делал это ради ее же блага.
Ради их общего блага.
Tod der Lüge
Дни отрочества и юности, если оглянуться на них, кажутся Хайнеру улетающим вихрем колдографий, вьющихся за последним вагоном революционного экспресса. Среди них запечатлено много лишнего и ненужного, чего приятней вовсе не помнить.
В 1926-ом, в год поступления в школу, Хайнер через плечо сокурсника, чьи родители могли позволить чаду подписку на ежедневную газету, вычитал о скандальных заокеанских похождениях Геллерта Гриндевальда – мага, довольно известного в некоторых кругах. Не далее как в том же году знаменитый символ, увиденный на одной из стен Дурмштранга, возбудил интерес Хайнера к автору. Год от года интерес неуловимо перерастал в одержимость.
На два курса выше обидного «где ты достал эту нищенскую мантию?» Хайнер случайным образом (наблюдательность и вовремя оброненная в нужное ухо фраза) попал в разноперый кружок учеников, так или иначе увлеченных идеями (или тем, во что они превращались в головах детей) Гриндевальда. Чуть позже протекция старшекурсников приоткрыла перед Крамером оазисы знаний если не запрещенных, то крайне нежелательных даже в столь лояльной к темным искусствам школе. Принадлежность к смелым идеям Гриндевальда и некая общность с другими «интересующимися» возвысила Хайнера над «непосвящённой» массой. Раньше он состоял в компаниях разве что как предмет насмешек, теперь – не нуждался ни в ком, потому что хранил в себе нечто запретное. Оно грело его зимними ночами в постели, покуда в гостиной факультета гремели взрывы праздничного хохота, умасливало язвы злых шуток, шептало утешения в дни тяжкой зависти.
Крен в отношениях с однокурсниками не без неприятностей удалось поправить лишь к пятому году обучения. От него отстали, а большего он не ждал. Зачем? У него за пазухой жил Гриндевальд. Благодаря ему Хайнер заполучил простую и стройную систему миропорядка, узрел видение дивного мира, в котором нет места ни отцам-забулдыгам, ни дезертировавшим с семейного фронта матерям, ни детям, вынужденным вырезать друг из друга жизнеспособные модели.
Ради претворения в жизнь указанной системы он отринул щекотливую пряность первой любви и всякий досуг, отделенный от ежедневного пестования собственного превосходства.
Приспевшая Марта отхватила солидный ломоть дозревающей в брате идеологии. Хайнер занимался тем же, чем и раньше: пристраивал сестре шоры, дабы двигалась она в предсказуемом ключе. От сомнительных (читать - всех) знакомств Хайнер ее тоже оградил – слишком хороша была Марта, чтобы кому-то иному дозволялось наслаждаться ее цветением. Впрочем, никто и не замечал под оболочкой чудаковатой девочки венец мучительного и беспощадного акта творения.
Крамер по-прежнему увлекался жестово-мимическим языком и охотно проникал в сердцевины человеческих поступков. Поначалу интерес ограничивался потребностью избавиться от нападок и притеснений, а затем переродился в потенцию влиять и подавлять.
Людские лица и разумы оставались заметной частью обширного поля интересов юного Крамера, но он не упивался значительностью достижений и не давал волю тщеславию. Более того, он всегда старался держаться чуть ниже пика, где ветра зависти дуют особенно яростно. Если мог – уступал первый шаг другому, чтобы посмотреть, что произойдет дальше.
Хайнер отлично представлял, что ему (и сестре) потребно. Он закончил школу, соорудив из выпускных оценок максимально допустимую высоту, и сразу приступил к осторожным попыткам влиться в среду взаправдашних сторонников Гриндевальда. Одновременно поступил на курсы авроров, оказавшись по итогам трехлетнего обучения в числе лучших. Его приняли без колебаний – независимо в авроры и в пушечное мясо революции. Марта еще не закончила школу, когда Хайнер успел вырасти из пешек шагавшей по Европе метаморфозы. Кровавыми жертвами и фанатичным поклонением он растопил сердце своего идола. Не раз и не два Крамер эталонно доказывал собственную ценность, преданность и пользу делу Гриндевальда, драматично перекраивая земной путь именитых (не)другов нового порядка.
И был готов к славной смерти, но Гриндевальд приказал жить. Гриндевальд дал ему то, чего Хайнер тщетно ждал от отца – почет, уважение и признание.
Так мальчик из неблагополучный семьи стал насажденным благополучием для многих других семей.
Jedem das Seine
В восьми комнатах его служебной квартиры безлюдно.
Он считает месяцы до следующей встречи. На самом же деле время в берлинской квартире убитого министерского чиновника раскалывается на столетия и эпохи. Единственная комната в зоне обитания – кабинет. Есть подозрение, что кабинет был вполне просторен для прежнего хозяина – для личности же масштаба Хайнера он отчаянно тесен. Немудрена царящая здесь атмосфера изысканного беспорядка: кабинет основательно уплотнен пизанскими башнями документов и папок (откуда только берутся), непрочными кладками книг (баррикады на пути к знанию), гербариями газетных вырезок (бессмертие побед и лиц), старомодной и тяжеловесной мебелью (подарок безутешного тестя), а также великим множеством иных мелочей скоропостижного соломенного вдовца.
В восьми комнатах его служебной квартиры гуляют скорбные тени.
Шкаф красного дерева в зимних сумерках красит угол цветами старого жертвенника. Рояль, невесть какой трансфигурацией пролезший в проем, выпрашивает сонатину. В скучающем зеве исполинского камина ухает багровый гром войны. На столе пергамент, исписанный до боли знакомым Марте – и только ей – готическим почерком, где в междустрочной белизне толкутся и стенают невысказанные смыслы. Вместо подписи – брызги чернильной крови с осколками расщепленного пера. О, сколько перьев сломал он в немом споре с самим собой! Но сестра как никто достойна живой рукописи, а не бездушных, пропущенных через волшебное перо строк.
Эпоху спустя герр Крамер болтается по квартире неприкаянным духом, безумствует в тоске. Портрет сестры следит за ним из сумрака разоренной спальни.
«Сияет жизнь ее волос, но не очей», – без конца бубнит Крамер щемящий мадригал.
Смутная тревога точит братское сердце. Что он учуял во время последнего рандеву? Ничего. Какую-то короткую секунду маленький лоскуток ее запаха благоухал зловещим намеком на… неверность?
Не-воз-мож-но.
Стоит изругать себя за натужную подозрительность. Нет, нет, сестра никогда его не предаст.
Хайнер смирился с неизбежностью одиночества: на службе Гриндевальду друзей иметь не полагается. Он лучшие других понимает хрупкость любой дружбы, ведь и наивернейший слуга революции может в одночасье сломаться и предать ее дело. Мгновение назад он был союзником, а теперь, незаметно для себя - враг. В подобных обстоятельствах дружеские чувства будут герру Крамеру досадной помехой, атавизмом человечности перед лицом священного долга. Это недопустимо.
Потому служебные связи он поддерживает, но не питает розовых надежд. Наиболее мудрые товарищи отвечают взаимностью, а от глупых Todessturm вычищен.
Коллегами Крамер бывает часто недоволен, а все из-за того, что они недостаточно стараются: дым погромов мог бы вздыматься и на той стороне Атлантики.
Некоторые считают общество Хайнера нежелательным и избегают его, другие сотрудничают, искусно балансируя на тропинке тоньше волоса и острее лезвия, а иные прячут резонные опасения за маской неестественного дружелюбия. Большинство вне Todessturm попросту пребывает в блаженной неосведомленности. Ничто из перечисленного не дает гарантии избегнуть внимания Крамера. Он выхватывает дурные мысли незаметно, заходит издалека, подмечает, наблюдает, оценивает, просачивается, предостерегает. А коль скоро дело доводят до искупительной пытки, голос сострадания и ярости – голос Хайнера – течет жидким шелком или трещит адским пламенем. Он милосерден – не марает душу убийством, если есть возможность перевоспитать. Но его не любят. Не любят еще и потому, что по взгляду Хайнера не поймешь, кто следующий.
Домовик зажигает в кабинете лампу, и из проема в полутемный коридор опрокидывается столп зеленоватого света. Хозяин вышаркивает хитроумную комбинацию, как в ночь накануне ареста жены.
Отполированная репутация герра Крамера почти безупречна. Она сверкает гранями, ее превозносят на собраниях, заключают в рамку почета, смакуют в начальственных кабинетах. Едва ли маленькая щербинка жениного предательства заметна в блистающей глубине этого бриллианта. Ведь Хайнер сам – сам! – отдал изменницу в руки правосудия, лишь только Марта открыла ему глубину вероломства Мины. О Марта, лучшее из его начинаний! С ноющей болью в груди Хайнер воссоздает тихую истому сестриных губ, воспроизводит мягкий, округлый, теплый шепот жестокой правды…
Этот брак был полон самоотречения и контроля. Расчетливый взаимовыгодный союз. Хайнер принес покой Марты (трогательная ревность) в жертву нуждавшейся в финансах организации, тогда еще бывшей вне закона. Безобидный, граничащий с шуткой намек («ваш вклад неоценим, но деньги никогда не бывают лишними») – и Крамер вступил в до тошноты деловые сношения с богатой, известной связями и амбициями семьей. Он получил девственно чистую жену и билет в элиту чистокровных; будущий Todessturm – позлащенные дрова для костра грядущих потрясений; Вайнгарды – прочную, кровную связь с предопределенностью наступающих изменений.
В день заключения Вильгельмины в Нурменгард Хайнер вернулся к насущному. Грехопадение жены – не повод пропускать службу. Да и кто, если не единственный сын его отца, исполнит долг, гораздо более возвышенный и тонкий, нежели банальное выслеживание и наказание преступивших грань?
Хайнер убежден: есть нечто похуже бунта на улицах – смута в умах. Этому противнику нельзя уступать. Сомнения, опасные вопросы, малейшие ростки мятежа, еще облеченные в аргументы и диалог – их Хайнер корчует без пощады. Воинственный прозелитизм Крамера следует одобренной свыше доктрине «предвосхищающего возмездия». Гроздья нежелательных мыслей, набухая, разрешаются в последствия или, наоборот, бывают расклеваны и исхлестаны бурей вовремя подоспевшего вмешательства. Он и есть буря.
Глупо вырезать пятно, когда его можно вывести, разъесть изнутри. Покорность из-под палки и скулящее раболепие – чепуха, недостойная Гриндевальда. Старые методы – самообман и примитивизм, размножение мучеников. А мученики вредны, и мученичество – заразно. Как и громкие идеи.
Их следует вытравливать, вычищать, извращать, перемалывать и перестраивать, пока еще антагонистическая глупость целиком не завладела разумом несчастного. «Обращение» требует исключительной заботы, которой удовольствуется далеко не каждый – услуги Хайнера нередко влетают мятежным извилинам в копеечку.
Когда же промытый дочиста враг сдается Крамеру, он сдается не по принуждению и не во имя вековечной славы борца с режимом, но по собственной воле. Его и врагом-то уже не назвать – он искренне предан Гриндевальду и сам взывает к справедливой каре за ложь, за неосторожные слова, за вредительство. Слезы раскаяния сверкают на щеках прозревшего. Славься, Гриндевальд! Покров заблуждений сброшен, инакомыслящий разум оплодотворен единственно верной доктриной. Вот оно – счастье! Он расстается с жизнью под рокот «Да здравствует Гриндевальд!», а зеленая вспышка обрывает искреннее и невообразимое когда-то признание.
Повиноваться Гриндевальду мало: его должны любить.
навыки:
nb: блестяще сдал выпускные экзамены в школе и был одним из лучших на курсах авроров.
Посему:
х на оскорбительно высоком уровне владеет легилименцией (персональная страсть), незаменимой для внутричерепных галопад;
х на приемлемом для профессии – окклюменцией (укрывать мысли от Гриндевальда нет нужды, а от вражьих узилищ охранен зашитым в тело ядом);
х располагает арсеналом пыльных темномагических заклятий, щедро применяет их к врагам революции;
х в боевой магии неожиданно уступает собственному творению – сестре, и все же в дуэли смертельно опасен;
х особенно хорошо разбирается в зельях, применимых для перекраивания разумов;
х с небрежно-скучающим видом читает бессознательные сигналы собеседников, будто страницы затертого до дыр фолианта; с другой стороны, мимика и жесты – для Хайнера забавы устаревшие;
х свободно говорит на немецком и английском, со скрипом – на французском; с магической помощью – на любом;
х без видимых трудностей жонглирует собственными эмоциями; превосходно имитирует светскую учтивость и обходительность;
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Связь с вами:
Кровная и порочная.
В руках уродца свеча. Он поднимает ее, молча осматривает мальчишку, медленно цедит:
– Я здесь хозяин. Мастер. Мне нужен ученик. Могу взять тебя. Хочешь?
– Хочу!
– Чему тебя учить? Развлекать людей или еще чему другому?
– Другому тоже.
– Ну что ж, по рукам! – Карлик протягивает ледяную руку с кривоватыми пальцами. Левую.
Как только они ударили по рукам, раздался глухой лай. Пол качнулся, полотняные стены вздрогнули, черный шкаф отъехал в сторону. Образовался проем.
Неизвестный, «Легенды старого шатра».– Давай, детка, покажи мне страсть! – В густых сумерках шатра низкий хрипловатый голос звучит почти любовно.
Вышитые на ткани шатра знаки горят серебром и золотом, уличное освещение струится по внешней поверхности конуса, подсвечивает знаки галактическим ореолом, и они плывут, плывут в покрасневшей мгле звездами далеких миров. Кругом схлопывается космическая тишина.
Тепло. Козья шерсть не допускает прохладу и суету. Говорят, шатер передавался из поколения в поколение веками, и что соткали его три слепые карлицы из гарема древнего карлика-падишаха. Говорят всякое.
В душном застоявшемся воздухе сквозят колючие иглы пота и мягкие нотки своеобразного парфюма. Где-то в центре, аккурат под нисходящим складками небосводом, происходит томное копошение. Звучат смазанные междометия, что-то шелестит и тихонько хлюпает, слышится прерывистое остервенелое дыхание, как если бы гном-старатель крушил киркой последний метр породы между ним и алмазной жилой.
– Да, да, бешеная ты сука… сейчас… я… тебя… возьму. Как следует! Нагнись. Еще, еще. Я тебе не Майкл-мать-его-Джордан! О-о-о. Этот… замудоханный нигер… всего лишь… компенсирует… недостаток размера… в другом месте. Тут я его обогнал, а? – Голос гудит как приглушенный рокот возбужденного океана. Шуршание усиливается. Кто-то упоенно сопит. В невидимом шкафу с не меньшим упоением тикает шашень, существующий здесь вместо часов – отсчитывать мгновения счастья.Ненаписанная симфония длится еще двести тридцать два хлюпка, двести тридцать два трудных, свирепых хлюпка, которые шашень выдерживает стоически. Он привык. Пришлось, когда некий карлик выкупил его жилище – пару кусков древесины со старого фрегата, – чтоб сколотить для своей одежки забавный гробик.
Вдруг тьма волнуется, как потревоженный занавес, и шатер заполняет чехарда хрипов и хрюканий, колоритных настолько, словно поблизости мучительно издыхает здоровенный боров.
…
Зажигается свет, желтковыми лучами обливая стоящую у зеркала бледную фигурку. Это Тедди Карлик, известный сердцеед и пожиратель печени. Их двое. Один – вне зеркала, другой – в зазеркалье. Оба сжимают в руках главное цирковое достояние – то самое, размером, как говорят, со статуэтку «Оскар». И оба любуются друг другом.
– У-у-уф. – Карлики синхронно оттирают пот со лбов. Из спутанных косм выглядывают налитые кровью уши. – Уф-уф-уф. Люблю сентябрьские выпуски. – Журнал с забрызганной голой женщиной брякается на пол. Тедди шарит в складках своей великанской кровати, выхватывает изысканный платок с радужными инициалами и очищается от греха.
Очищается он регулярно. Перед ответственными собраниями – дважды. А сегодня вообще надо бы трижды, дело-то нешуточное: суд Линча над малолетним Иудой. Предательство, скандал и интрига! В цирке таковых прецедентов со времен революции не случалось.
Вот Тедди и готовится.
Из зеркала его благочестивые начинания копирует близнец. Кантинаро обстоятельно, с полным сознанием собственного величия меняет зеркальные позы и в n-нный раз восхищается. Вот он – хтонический бог, осиянный золотым блеском, нагой, потому что совершенный, и совершенный, потому что нагой. В густой сельве этой груди могли бы согреться тысячи тысяч нимф. В членах поместилась бы дремлющая мощь десятка титанов, а сам он есть атлант из тех времен, когда дикие эллины насиловали коз в долинах Аркадии.
– Ах, сатир хвостатый, – констатирует Тадуеш и залихватски подкручивает шерсть на ягодицах.
– Ну-те-с, ну-те-с, где последняя коллекция от Бетси? – Лилипут шуршит по ковру к гардеробу – одному из – и погружается туда с головой. Проходит приличествующее мнительным барышням время, прежде чем Тедди доходит до кондиции «директор Кантинаро».
***
Зажженные фонари ударяют снопами света в крышу и стены, полнят загнутый коридор багровым предвестием действа. Карлик торопливо ковыляет вперед и бодро ныряет в стылый эфир улицы через – естественно – заманчивую щель выхода. А что, он всегда так делал, еще в бытность свою шустрым сперматозоидом на поле неназванного соития.
На улице уютно. Карлик чмокает цепным пуделям у входа, оправляет бордовый камзол и хозяйским взором окидывает сумеречные владения.
– Йолло! Фить-фить!
Бархатная тишина. И робкие контрапункты сверчков в личном цветнике Тедди.
– Фить-фить-фить!
***
– Йолло снова обмочил мои асфодели, поэтому сегодня я точно кого-нибудь раскрошу, – как бы между делом сообщает карлик цыгану, входя в служебное помещение шапито. – Все готово? Ей-богу, хотел бы я иметь такую ядовитую струю! Неужто он за рыжую сучку обиделся? В общем, настроение подмочено, потому обойдемся без помпы.
Дальше – привычный ритуал: стопка виски, перчатки, матерный стишок и шейный хруст.
***
Тедди опять во тьме. Ни капли нервозности, ни единого движения мускула, ни-че-го. Статуя в черном мороке.
Вспыхивают прожекторы, высвечивают центр арены. Рядом с карликом – стул с застывшим человеком. Скотиной и гадиной.
С потолка дистрофичной змеей спускается микрофон. Тедди опускает голову и, вопреки обыкновению, не улыбается. В конце концов, он ведь свеженький вдовец. В некотором роде.
Бородатая Стефани с годами неумолимо устаревала, однако ходить к ней карлик продолжал – скорее из благодарности, чем ради удовольствий. Из благодарности, пожалуй, за верность цирку и за прижитого от нее пацана – Драгомира. Шустрый малый, достойный продолжатель отцовских традиций. Такой не пропадет. Не то что этот обсосок Патрик. Второсортное отцовство выглядывает в нем, как жопа из крапивы. Породу сразу видно.
Микрофон ложится в ладонь. Карлик незаметно усмехается. Что ж, этим вечером он держал и кое-что поувесистей. Во второй руке – внезапно – раскрытая Библия.
Он неторопливо зачитывает:
– Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошёл к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников.
Книга яростно захлопывается. Секунды ползут.– Я смотрю на вас, – карлик вскидывает голову и обводит зал взглядом, – и в каждом лице вижу один и тот же вопрос. Буду краток: не далее пяти секунд от сего момента все вопросы отсохнут, как член у старого Бо-бо. Это, – он добавляет в голос драматичности и указывает Библией на обуздавшего стул, – тот, кто разорвал нам сердце. – Великобарское «нам» отражает и монархическую личину Тадеуша, и цирковую общность сразу.
– Леди и джентльмены, братья и сестры, позвольте представить: Патрик Хирш, сын и убийца Бородатой Леди! – Карлик размашистым жестом балаганного распорядителя указывает на Патрика и делает шаг за границу света.Аплодисменты не звучат.
Пауза оттеняется ропотом колотящихся сердец. Спустя минуту голос из темноты продолжает:
– Мне стало известно, – карлик без зазрения совести оттягивает заслуги Льюиса-гипнотизера на себя, – что змея, какую не видывали со дней Эдема, пригрелась на нашей груди! Предатель, копивший яд на каждого из нас! Он связался с подобными ему отбросами из города и сотворил то, что все мы совсем недавно потрясенно наблюдали на кукурузном поле. То, что ранило нас до глубины души. Земля еще не впитала кровь Бородатой Леди, как он измыслил новую гнусность: сбежать с нашими секретами и найти убежище на той стороне!Карлик дает кипящему маслу народного гнева как следует прошипеть, пойти пузырями, а затем выходит в свет и приближается вплотную к сидящему. Кивает гипнотизеру, удостоверяясь в том, что блуждающий в гипнотическом трансе мальчишка его услышит. Раскрывает книгу на заготовленном месте.
– Согласен ли ты с тем, что вменяется тебе? Каешься ли в грехах? Хо-ро-шо. И вот что начертано тебе: мене, текел, фарес. Мене – исчислил Я царство твое и положил конец ему. Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким. Фарес – разделено тело твое и дано собакам и свиньям. – Книга захлопывается в тональности гробовой крышки. – Мы лишаем тебя трейлера, собаки и нашей протекции. До рассвета упоминания о тебе будут вымараны с афиш. Ты останешься существовать в прошлом, которого никогда не было. – Карлик строит доверительную мину, склоняется ближе к приговоренному. – Говорят, для акробатов у Дьявола есть персональный ящик боли. – Отворачивается. – Эй! Мы кое-что задолжали мальцу! Тридцать сребреников. Дайте же ему причитающееся! – Тадеуш выбрасывает микрофон и исчезает со сцены.
Отредактировано Heiner Kramer (2016-12-19 19:30:15)